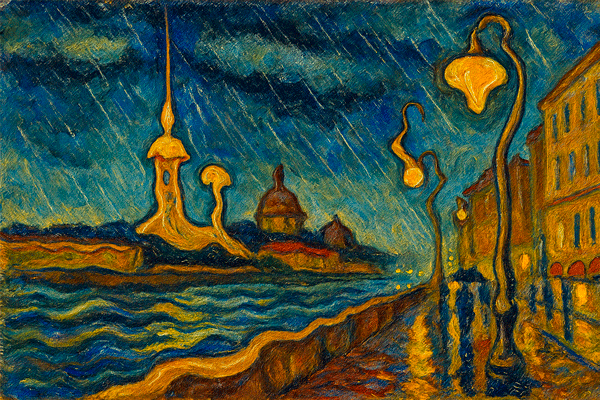Город по имени Погода
🕰 Часть 1. Санкт-Питербурх
Иногда я думаю, что Петербург родился не из мечты, а из упрямства.
И пошло-поехало.
В тот день, 16 (27) мая 1703 года, не было ни фанфар, ни лент, ни речей. Просто начали строить крепость на Заячьем острове — и всё. Пётр, кстати, даже не присутствовал. Великий строитель империи, понимаешь ли, делегировал исторический момент. Типа: «Запишите меня потом в хронику — я занят». (По этому вопросу не утихают споры)
Официального имени крепости тоже не придумали. Оно появилось позже, когда заложили церковь — вот тогда-то и родился первый кирпич в фундаменте городского нарциссизма: Санкт-Питербурх.
Так, по крайней мере, писал сам царь — с «и» и с «х» на конце. Видимо, вдохновился Голландией и не подозревал, что подарит будущим поколениям филологов бессонные ночи. Название то сливалось, то распадалось, писалось с «е», с «и», с «г», кто во что горазд. Город уже был, а орфографии ещё нет. Классика.
Мне нравится думать, что первые жители этой «новой крепости Питербурга» стояли по колено в грязи и думали: «А может, ну его, этот Парадиз?».
Парадизом — то есть раем — Пётр называл стройку неоднократно. Ну да, болото, комары, штормы — настоящий рай для мазохиста. Видимо, император любил, когда всё через страдания.
Смешно, но название «Питербурх» сначала относилось только к крепости, а потом уже, расползлось по окрестностям, превращаясь в город. Кто-то писал «Питерпол», кто-то «Петрополис». Даже в документах — сплошной творческий хаос. Город называли то на латыни, то по-русски, а иногда, вообще, как Бог на душу положит.
Официального решения «переименовать крепость в город» не было. Всё случилось само собой.
Сначала было болото, потом крепость, потом — «новый Рим», потом — «северная столица», и, наконец, бесконечные синонимы слова «красота», замаскированные под архитектуру.
Вот так и родился Санкт-Питербурх — ребёнок царской воли, европейских амбиций и элементарного русского упрямства.
Да, вышло красиво. Но, Пётр, черт возьми, мог бы выбрать место хоть чуть посуше.
🧳 Часть 2. Питер
Когда город наконец оброс улицами, крышами и гордым чувством собственной важности, народ решил, что «Санкт-Питербурх» — это чересчур длинно для разговоров на ветру.
Так и появился Питер — коротко, по-человечески. Без всей этой бюрократической позолоты.
Можно сказать, что город скинул камзол и остался в рубахе.
Кто первый сказал «Питер» — неизвестно. Но я уверен: это был рабочий с лопатой, уставший от грязи, дождя и царских указов. Он просто махнул рукой и сказал:
— Да пошёл он, этот Санкт... Пускай будет просто Питер.
И всё, пошло-поехало.
Империя — империей, а язык народа всегда выигрывает.
Первое письменное упоминание «Питера» нашли аж в 1764 году, в комедии Фонвизина «Недоросль». То есть представьте — уже в XVIII веке культурные люди признавали, что «Питер» звучит живее, чем вся эта официозная конструкция с двойным названием и немецким душком.
Карамзин, правда, ворчал: мол, «простой народ говорит у нас “Питер” вместо “Петербурга”».
Ага, простой народ. Но именно этот «простой народ» город и строил. На своих спинах, в грязи, с температурой и матом, который, подозреваю, был первым настоящим гимном новой столицы.
Смешно, но даже финны подхватили: у них город зовётся Pietari.
Вот вам и международное признание простоты.
Ни тебе «Санкт», ни «бург» — просто Питер, и всем всё ясно.
А потом — пошло поэтическое.
Радищев, песни, мемуары... Народные куплеты: «Как во славном во городе во Питере…»
И ведь звучит! «Во Питере» — как будто уже с любовью, будто город живой, как сосед, к которому заходишь за солью и заодно поплакаться о жизни.
Постепенно даже Москва смирилась. Её главная улица получила прозвище Питерская,
То есть даже Москва признала: хочешь ты этого или нет, но слово «Питер» — живучее.
Оно пережило войны, империи, революции, и даже Ленинград не смог его затоптать в асфальт.
Ой, телефон…
— Я в Питере, да.
И я иду по Невскому и улыбаюсь. Потому что Питер — это не просто сокращение. Это диагноз.
Город, где кофе подаётся с ветром, где все немножко усталые, но не сдаются, и где даже дождь льёт интеллигентно, с чувством меры.
🏛 Часть 3. Петрополь
Иногда мне кажется, что у Петра была лёгкая мания величия. Хотя «лёгкая» — это я вежливо.
Человек назвал город в свою честь ( ну чего скрывать), построил его на болоте и, видимо, в какой-то момент понял: «Хм, звучит недостаточно монументально».
И тогда на сцену вышел Петрополь — греческая версия названия. Прямо с античным блеском, будто бы Афины в сапогах.
Первым, кто рискнул так написать, был какой-то придворный, Гавриил Головкин, — сообщил, что, мол, «в самый Петров день назвали сей город Петрополем».
Идея понравилась. Особенно поэтам, у которых тогда началась массовая истерия на тему древней Греции: все читали Гомера и хотели чувствовать себя философами, даже если вчера они были просто пьяными секретарями.
Ломоносов подхватил волну — вставил «Петрополь» в оду, посвящённую восшествию Елизаветы.
Патетика, фанфары, гром, молнии!
И, конечно, главный символ — камень. Ведь по-гречески «петрос» значит «камень».
Тут всё сложилось: апостол Пётр, Пётр I, камень, крепость, церковь, основа, мощь.
Правда, если вспомнить, что весь город стоит на зыбком болоте, каламбур выходит особенно забавным.
Такое ощущение, что сам Христос сказал бы:
— На камне построю церковь Мою.
А Пётр Великий добавил:
— А я попробую на трясине.
Но знаете — получилось.
Да, с жертвами, с наводнениями, с кучей похороненных рабочих, зато красиво.
В 1712 году, когда Петербург сделали столицей, надпись на крепости гласила: «Бог, укрепи камень сей».
Я всегда представляю этот момент: фейерверк, Пётр с поднятым бокалом, рядом вельможи, у всех благородный восторг, а под ногами у них — дрожащая земля, потому что сваи ещё не вбили.
Метафора всей русской истории.
Но прошло пару веков — и «Петрополь» снова превратился в иронию.
Краевед Анциферов, человек с философским чувством юмора, написал:
«Петрополь превращается в Некрополь».
Вот уж точно сказал как отрезал.
Пока другие видели в городе поэзию и балет, он видел кладбище империй, идеалов и иллюзий.
И, если честно, я его понимаю.
Петербург — город, который умеет быть красивым даже в руинах.
Он — как античный герой, погибший с прямой спиной и сарказмом на устах.
Но переходим к следующему превращению —
когда Петербург вдруг решил, что он Пальмира.
И не просто Пальмира, а Северная Пальмира.
То есть — пальмы без пальм, пески без песков, зато с ветром, от которого хочется завернуться в шубу и прикинуться статуей.
🌴 Часть 4. Северная Пальмира
Иногда у городов случаются припадки самоуважения.
Так вот, Петербург этим страдает хронически.
В XVIII веке кто-то решил, что мало быть просто столицей — нужно быть античным мифом, причём желательно с южным акцентом.
Так родилась Северная Пальмира.
Легендарный город пальм и царицы Зенобии перекочевал в туманные берега Невы, где пальмы заменили шпили, а песок — вечный дождь.
Кто вообще додумался до этого сравнения?
Ну, как обычно: англичане.
Джеймс Докинз и Роберт Вуд — два джентльмена, которым в жизни явно не хватало петербургской слякоти.
Они съездили в Сирию, посмотрели на руины Пальмиры, написали книгу «Руины Пальмиры» и подарили Екатерине II экземпляр с надписью:
«Екатерине II, Зенобии Северной Пальмиры».
И тут всё сошлось.
Императрица, у которой амбиций было больше, чем у всего Сената вместе взятого, решила: а почему бы и нет?
Пусть будет Зенобией. Только без песчаных бурь — у нас свои, снежные.
С тех пор город стали называть Северной Пальмирой — с лёгким придыханием и большим преувеличением.
Никаких пальм, никаких верблюдов, зато ледяные ветра, фонтаны в инее и мосты, которые разводятся, как нервы у местных жителей.
Но зато звучит красиво.
Поэты — те вообще в восторге.
Державин в «Изображении Фелицы» сравнивает Екатерину с пальмой.
Видимо, других растений под рукой не оказалось.
Меня в этой истории всегда забавляет одно:
вся Россия мёрзла, а Петербург — изображал оазис.
Это как если бы Чукотка вдруг назвалась «Северным Багдадом».
Но, надо признать, этот образ прижился.
С тех пор Петербург научился быть красивым наперекор климату и логике.
Он весь — из парадоксов: где надо солнце — там метель, где ждёшь тепла — отваливается сосулька с третьего этажа.
И всё равно — красиво.
Эта «Пальмира без пальм» стала символом того, как Россия умеет строить миф из ветра и холода.
Так что, когда я слышу очередного туриста, восторженно шепчущего:
— Ах, Северная Пальмира!
я всегда думаю:
«Дорогой, ты просто не был тут в ноябре».
🔥 Часть 5. Петроград
Говорят, что в трудные времена люди срываются, — ну так вот, в 1914 году срыв случился у целого города.
Россия вступила в войну с Германией, и тут вдруг все осознали:
«Погодите, а наш любимый Санкт-Петербург, выходит, немецкий?!»
И началось.
Газеты захлёбывались патриотизмом, певцы перестали исполнять Вагнера — якобы от него у них срывается голос.
С немецких вывесок поспешно отковыривали буквы, бухгалтеров переименовали в «счетоводов» (звучит подозрительно как ругательство),
а немцев — в «бывших знакомых».
Даже у посольского кельнера не выдержали нервы и его, бедолагу, убили в разгаре национального подъёма.
И в этой атмосфере словесного шовинизма кто-то догадался:
«А давайте, — говорит, — и столицу переименуем. А то как-то не по-русски звучит, этот ваш “Петербург”. Пусть будет “Петроград”! Зато гордо, патриотично и абсолютно лишено смысла!»
Инициативу, кстати, подали вовсе не казаки или революционеры, а чехи — жившие в столице, люди с тонким чувством иронией к истории.
Они написали императору петицию, мол, «давайте уберём немецкий оттенок».
И Николай II, недолго думая, махнул рукой:
— Да хоть Петроград, хоть Петрополь, лишь бы война шла по расписанию.
И 31 августа 1914 года всё свершилось:
город стал Петроградом.
Патриоты радовались, будто лично победили Гинденбурга,
а интеллигенция закатила глаза и тихо застонала.
Блок мрачно писал в дневнике, Гиппиус шипела в уголке:
«Петроград? Чертоград, скорее».
И ведь не ошиблась.
Город действительно начал превращаться в ад — революции, кровь, хаос, пьяные лозунги и философия на баррикадах.
Петербург, этот аккуратный немец с пудрой на парике, за пару лет стал хриплым босяком с криком в голосе.
Империя рушилась, а он стоял в центре — лохматый, облупленный, но всё ещё прекрасный.
И вот я думаю:
каждое новое имя Петербурга — как новый диагноз.
«Петроград» был симптомом национального невроза,
словом, которое пыталось вылечить страну от её собственного происхождения.
Не получилось.
Но зато в языке осталась эта хрипотца —
тяжёлая, как дым от сожжённых дворцов,
и гордая, как бронзовый конь на Сенатской, который уже понимал, что ему предстоит пережить всех.
⚙️ Часть 6. Ленинград
В январе двадцать четвёртого года у города, кажется, уже не осталось сил сопротивляться судьбе.
Пётр, Екатерина, Зенобия — все эти прежние духи Петербурга давно выветрились,
а на их место пришли люди в кожанках с прожектами на вечность.
И вот они собрались и решили:
— Раз Ленин умер, значит, нужно увековечить.
А чем? Ну, конечно же, городом!
Так Петроград стал Ленинградом — «по просьбам скорбящих трудящихся»,
как трогательно написали в документах.
Только скорбь эта выглядела, больше, как административное задание.
Григорий Зиновьев, председатель городского совета, видимо, проснулся утром, посмотрел в окно и подумал:
«Хорошее утро, чтобы переписать географию».
Через три дня Михаил Калинин всё утвердил.
И город снова сменил личность — теперь он должен был говорить пролетарским баритоном,
и ни в коем случае не вспоминать про императорские шпили и кареты.
Но старый дух Петербурга был упрям.
Он сидел в булочных, курил на лестницах коммуналок и шептал:
— Ленинград, говорите? Ну-ну.
Город ответил на это наводнением — гигантским, как будто природа сама сказала:
«А не слишком ли вы тут, товарищи?»
Это было второе по силе после того, что описано в «Медном всаднике».
Ирония судьбы: каждый раз, когда власть пытается переименовать Петербург, вода приходит напомнить, кто здесь хозяин.
Многие петербуржцы новое имя игнорировали.
Шостакович шутил, что живёт в Санкт-Ленинбурге — смесь академии и дурдома.
А в мемуарах Шаляпина остался анекдот:
когда Ленинград только нарекли, поэт Демьян Бедный предложил переименовать все произведения Пушкина в свои.
Вполне в духе эпохи — если город можно переписать, почему бы не переделать классику.
Народ же отреагировал по-своему — как всегда, с юмором.
Появились фольклорные гибриды: Петролен, Ленинбург.
Шутка ходила:
— Какие три лучших города мира?
— Петербург, Петроград и Ленинград.
После блокады, после голода, после всего.
Он пережил и имперскую вычурность, и революционную истерику, и красные транспаранты.
И в конце концов, даже когда всё стало называться «в честь кого-то», Ленинград остался собой —
уныло прекрасным, усталым, величественным и гордым.
Имя — неважно.
Главное — он жив.
🕰️ Часть 7. Санкт-Петербург
В 1991 году страна распадалась, как старый торт — слоёный, вчерашний, с кремом идеологии, который давно протух.
И где-то среди этой сладкой катастрофы Ленинград вдруг решил:
«А не пора ли вернуть себе лицо?»
Провели референдум.
Официально — акт народной воли.
Неофициально — спор старых знакомых:
одни говорили «пусть останется Ленинград, за ним кровь и слава»,
другие — «вернём Петербург, потому что в нём хотя бы вкус был».
Счёт оказался почти ничейный, но перевесили ностальгики по шпилям и лошадям Клодта.
И город снова стал Санкт-Петербургом.
Звучит как happy end, но не совсем.
Переименование получилось как утренний кофе после запоя: вроде бодрит,
а внутри всё ещё горчит.
Вывески меняли медленно, чиновники путались в бумагах,
а старушки в очередях долго шипели:
— Какой ещё Санкт? Мы уже к Ленинграду привыкли.
Но город не спорил.
Он просто выдохнул, стряхнул пыль с фасадов, покрасил мосты и как будто сказал:
«Ну что, попробуем снова?»
Девяностые его, конечно, не пожалели.
Сумеречные витрины, бандитский шик, запах дешёвого пива у метро «Балтийская» —
всё это легло на гранитный блеск новой старой столицы.
Но Петербург умеет носить бедность с достоинством.
Он, как старый денди в потертом пальто, всё равно держится прямо и цитирует Блока,
пока вокруг кто-то торгует пельменями из багажника.
А потом пришли двухтысячные, и город снова стал модным.
Туристы, айтишники, кофейни, мосты в Инстаграме.
Питер наконец перестал быть чёрно-белым — теперь он, скорее, серо-бирюзовый,
как фильтр, через который мы все смотрим на прошлое.
И вот сейчас я стою у Невы и думаю:
четыре имени, четыре жизни, одна и та же вода.
Она течёт мимо Зимнего, как всегда,
и, кажется, знает:
всё это — спектакль, а настоящий Петербург — под поверхностью.
Он не в названиях, не в лозунгах,
а в утреннем тумане, в звуке шагов по мокрому асфальту,
в этой упрямой, ироничной нежности,
с которой город снова и снова возвращает себе самого себя.
🌧️ Эпилог
Иногда мне кажется, что Петербург — это не город, а способ существования во времени.
Такой эксперимент по выживанию в условиях вечной влажности и культурного превосходства.
Все остальные живут в столицах, мегаполисах, курортах,
а мы — в анекдоте между погодой и философией.
Город сменил четыре паспорта, а характер — ни разу.
Всё тот же упрямец с царской осанкой и коммунальной душой.
Может притворяться кем угодно:
святым, революционером, героем блокады, модным баристам,
но всё равно в конце дня — тот же самый Петербург,
уставший, красивый, немного чокнутый и смертельно обаятельный.
Я иногда думаю:
если бы ему снова захотелось сменить имя,
он бы, наверное, назвал себя просто — Погода.
Потому что никто не жалуется на Москву так, как мы на дождь,
и никто не гордится своими тучами так искренне.
Город живёт вопреки всему: власти, экономике, здравому смыслу и собственной архитектуре.
Он как старый профессор — ходит в поношенном пальто, читает лекции о вечном,
а вечером сидит на кухне, варит себе чай из пакетика и цитирует Мандельштама.
И при этом — абсолютно счастлив, по-своему.
Так что я больше не злюсь, когда он снова затопляет улицы, когда лифт не работает, а небо висит прямо на уровне плеч.
Это просто Петербург напоминает:
жизнь — не про комфорт,
жизнь — про стиль.
А стиль у него, согласитесь, безупречный.